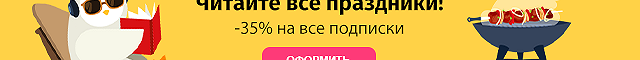
- Главная
- Все подборки
- Историк читает исторические романы: «Июнь» Дмитрия Быкова
Историк читает исторические романы: «Июнь» Дмитрия Быкова
2
4.22
 Владимир Максаков
Владимир МаксаковМы запускаем новую рубрику, в которой историк и журналист Владимир Максаков будет рассказывать о книгах с интересным и достоверным описанием исторических событий, личностей, мероприятий. И первым выбор пал на роман литературоведа и писателя Дмитрия Быкова.
«Июнь» Дмитрия Быкова – еще один роман о тридцатых, продолжающий линию «Обители» Захара Прилепина и «Вдруг охотник выбегает» Юлии Яковлевой. Писатель уже обращался к этому времени в биографиях Горького, Маяковского и Пастернака, и теперь подходит к художественному произведению почти как историк.
Дмитрий Быков пишет современным нам языком, лучше самих героев понимает их чувства и взгляд на эпоху, недоговаривает и дает оценки. Советских людей тридцатых волнует история – своя и чужая, личная и страны, – но писатель убежден, что это «прекрасные люди с короткой памятью», ведь «воспоминания – дурной тон». Они не помнят толком ни истории, ни вчерашней любви и обречены на тоталитаризм и одиночество в брошенном вперед времени: «Жизнь не стоит, от жизни остается только то, что напишут».
«Июнь» – роман исторический, но далеко не в привычном смысле слова. Прежде всего, он лишен характерных примет времени. Эпоха, в которой живут и действуют герои, находится словно за кулисами: кто-то что-то видел, слышал, читал, смутные очертания репрессий маячат в прошлом, а войны – в будущем. Своя логика у такой фигуры умолчания есть, так как люди тридцатых оглушены шумом исторического времени.
Один из главных вопросов к произведению на историческую тему – могло ли такое быть? Ответ «Июня»: несомненно. Через судьбы так называемых «характерных для эпохи героев» (их всех связывает обостренная рефлексия) показано, что происходит между репрессиями и войной с советской интеллигенцией, но важнее кажется то, что сами они при этом не меняются – или, вернее, мы не видим этих изменений, потому что эти люди слишком хорошо научились лгать самим себе и окружающим. Арест близкого человека произведет на них впечатление, но со временем они убедят себя, что так было надо, и сживутся с этим. Кажется, пробудить их может только война, и не случайно за рамками повествования остается их реакция на утренние часы 22 июня. Это правда скорее историка, чем писателя: с этой даты начинается уже совсем другой период.
Бесконечный июнь растягивается на два предвоенных года. Люди, еще не пережившие «Большой террор», ожидают уже великой войны, и эху расстрелов на Лубянке будут вторить орудийные залпы на фронте.
По контрасту с названием главное романное время – зима, и заморозки ощущаются в людях, так и не решающихся на слово и дело. Студент Миша повисает между учебой и жизнью, журналист Боря – между женой и любовницей, ученый рецензент Крастышевский – между реальным и фантастическим миром. Пытаясь околдовать правильно подобранными словами самого Сталина, он разделяет мистическую веру в текст Велимира Хлебникова с гипнозом абсолютной власти, под который подпал даже Борис Пастернак. Советская власть кажется Крастышевскому иррациональной (нельзя же, в самом деле, понять непостижимое – репрессии?), следовательно, и влиять на нее можно только сверхъестественными методами.
Почти в традициях плутовского романа герои, как будто сами того не желая, избегают военной службы, тяжелой болезни и ареста. Все они – люди думающие и гуманитарии, но даже не пытаются осмыслить происходящее. За них все решает пришедший на место судьбе коллектив, будь то комсомольское собрание или НКВД. Перековываясь, они скорее взрослеют, чем воспитываются, привыкают к цинизму и двойной морали. Их подруги, разучившиеся чувствовать и строить отношения, хотят для себя роли невест или жен, ждущих и не дожидающихся женихов и мужей с войны, – поэтому в книге так много прощаний и почти нет встреч.
В разговорах об искусстве (а говорится об этом много и со знанием дела) не находится места соцреализму – производственному роману или поэзии революционного романтизма. Вряд ли бы люди избегали таких тем в действительности, но это только подчеркивает их неприкаянность в советском настоящем, где время вышло из пазов.
Один из конфликтов исторического романа – пробуждение сознания героя, понимающего, что окружающая его жизнь и стоящая за ней идеология не такие, какими кажутся, и начинающего после этого бунтовать или сдающегося. Это извечный выбор: пойти против своего времени или в ногу с ним. У героев «Июня» его практически нет, и они не успели усомниться в советской власти. Препарируя их жизни, Дмитрий Быков показывает, как чудовищная историческая травма террора оказывается вытеснена в пласт личных отношений, изначально нездоровых. В Советском Союзе не может быть счастливой семьи.
Отметим, что ожидание современниками войны несколько раз «оправдывалось» (и обманулось в последний – самый страшный – в июне). Мировая война началась в сентябре 1939 года, несколько месяцев спустя – советско-финская, которую умолчали (не случайно совсем не советские строки о ней напишет Ольга Берггольц, словно мучимая тяжким предчувствием: «Безмирно живущему мертвые мстят: Все знают, все помнят, а сами молчат»).
Война предстает в «Июне» очищением огнем и мечом, которого ждут герои, не способные по-другому решить свои проблемы. Но нового мира после войны не будет: хоть воздух и станет прозрачным, почти некому будет им дышать. Жажда, вызванная военной лихорадкой, оказывается созвучна милитаризованному духу тридцатых. Для утопии уже нет места: «пацифист устроит такую борьбу за мир, что мало кто выживет». Но и война осмысляется рассказчиком не как идеологическое противостояние, ведь Советскому Союзу ничего не стоит менять друзей и врагов.
Молодые люди идут на Зимнюю войну (Советско-финляндская война 1939-1940 гг. – Прим. ред.) только потому, что это война вообще, а с кем именно – для них не так уж важно: «просто чтобы бросить себя на неведомую чашу, которая вдруг перевесит – и тогда все поймут, что хватит». Вторя своим героям, автор случайно или намеренно говорит о комиссарах в 1941 году, хотя вместо них уже были замполиты. Военным опытом грезят будущие прозаики и поэты, и он оказывается единственным недоступным творческому воображению. Война выполняет и конститутивную функцию, служа мифом основания: «Бывают времена, когда нет логики, и без войны ее уже не выстроишь». Это милитаризация советского общества: от френча и сияющих сапог до норм ГТО.
Для Дмитрия Быкова написать историю тридцатых невозможно. Обреченными на неудачу оказываются роман Миши, стихи его сокурсников и пьеса его приятелей, публицистика Бори, а в конечном итоге и попытка колдовать словами Крастышевского. Ища новой формы для высказывания о предвоенных годах, писатель использует для своей книги реальные сюжеты и участвовавших в них людей. Его роман оказывается так и не созданным в действительности, но очень правдоподобным (квази)историческим источником, помогающим нам лучше понять предвоенные годы.
Технически «Июнь» представляет собой огромный и почти слитный поток авторского сознания, знающего, с чего все началось и чем все закончится, умеющего говорить намеками и сплетающего воедино голоса множества героев, а стилистическая как бы небрежность придает повествованию живости.
У этой квазинеотредактированности есть объяснение: на обложке «Июня» красуется штамп «КГБ – Самиздат», стоят грифы «на правах рукописи», «для служебного пользования» и даты «1941-2017». Дмитрий Быков словно признается в том, что его альтер эго погибло в первый год войны, а роман был выпущен только к столетию революции, на что указывает эпиграф из «Возмездия» Блока. Автор обнажает прием, посвящая немалую часть текста обсуждению литературы модернизма и формального метода и даже выводя «золотое сечение» для собственного романа: «Вторая часть должна составлять половину первой, третья – примерно треть второй, четвертая же содержит главный посыл и вчетверо меньше». Теорема доказана.
«Июнь» Дмитрия Быкова – еще один роман о тридцатых, продолжающий линию «Обители» Захара Прилепина и «Вдруг охотник выбегает» Юлии Яковлевой. Писатель уже обращался к этому времени в биографиях Горького, Маяковского и Пастернака, и теперь подходит к художественному произведению почти как историк.
«Июнь» – роман исторический, но далеко не в привычном смысле слова. Прежде всего, он лишен характерных примет времени. Эпоха, в которой живут и действуют герои, находится словно за кулисами: кто-то что-то видел, слышал, читал, смутные очертания репрессий маячат в прошлом, а войны – в будущем. Своя логика у такой фигуры умолчания есть, так как люди тридцатых оглушены шумом исторического времени.
Один из главных вопросов к произведению на историческую тему – могло ли такое быть? Ответ «Июня»: несомненно. Через судьбы так называемых «характерных для эпохи героев» (их всех связывает обостренная рефлексия) показано, что происходит между репрессиями и войной с советской интеллигенцией, но важнее кажется то, что сами они при этом не меняются – или, вернее, мы не видим этих изменений, потому что эти люди слишком хорошо научились лгать самим себе и окружающим. Арест близкого человека произведет на них впечатление, но со временем они убедят себя, что так было надо, и сживутся с этим. Кажется, пробудить их может только война, и не случайно за рамками повествования остается их реакция на утренние часы 22 июня. Это правда скорее историка, чем писателя: с этой даты начинается уже совсем другой период.
Бесконечный июнь растягивается на два предвоенных года. Люди, еще не пережившие «Большой террор», ожидают уже великой войны, и эху расстрелов на Лубянке будут вторить орудийные залпы на фронте.
По контрасту с названием главное романное время – зима, и заморозки ощущаются в людях, так и не решающихся на слово и дело. Студент Миша повисает между учебой и жизнью, журналист Боря – между женой и любовницей, ученый рецензент Крастышевский – между реальным и фантастическим миром. Пытаясь околдовать правильно подобранными словами самого Сталина, он разделяет мистическую веру в текст Велимира Хлебникова с гипнозом абсолютной власти, под который подпал даже Борис Пастернак. Советская власть кажется Крастышевскому иррациональной (нельзя же, в самом деле, понять непостижимое – репрессии?), следовательно, и влиять на нее можно только сверхъестественными методами.
Почти в традициях плутовского романа герои, как будто сами того не желая, избегают военной службы, тяжелой болезни и ареста. Все они – люди думающие и гуманитарии, но даже не пытаются осмыслить происходящее. За них все решает пришедший на место судьбе коллектив, будь то комсомольское собрание или НКВД. Перековываясь, они скорее взрослеют, чем воспитываются, привыкают к цинизму и двойной морали. Их подруги, разучившиеся чувствовать и строить отношения, хотят для себя роли невест или жен, ждущих и не дожидающихся женихов и мужей с войны, – поэтому в книге так много прощаний и почти нет встреч.
В разговорах об искусстве (а говорится об этом много и со знанием дела) не находится места соцреализму – производственному роману или поэзии революционного романтизма. Вряд ли бы люди избегали таких тем в действительности, но это только подчеркивает их неприкаянность в советском настоящем, где время вышло из пазов.
Один из конфликтов исторического романа – пробуждение сознания героя, понимающего, что окружающая его жизнь и стоящая за ней идеология не такие, какими кажутся, и начинающего после этого бунтовать или сдающегося. Это извечный выбор: пойти против своего времени или в ногу с ним. У героев «Июня» его практически нет, и они не успели усомниться в советской власти. Препарируя их жизни, Дмитрий Быков показывает, как чудовищная историческая травма террора оказывается вытеснена в пласт личных отношений, изначально нездоровых. В Советском Союзе не может быть счастливой семьи.
Отметим, что ожидание современниками войны несколько раз «оправдывалось» (и обманулось в последний – самый страшный – в июне). Мировая война началась в сентябре 1939 года, несколько месяцев спустя – советско-финская, которую умолчали (не случайно совсем не советские строки о ней напишет Ольга Берггольц, словно мучимая тяжким предчувствием: «Безмирно живущему мертвые мстят: Все знают, все помнят, а сами молчат»).
Война предстает в «Июне» очищением огнем и мечом, которого ждут герои, не способные по-другому решить свои проблемы. Но нового мира после войны не будет: хоть воздух и станет прозрачным, почти некому будет им дышать. Жажда, вызванная военной лихорадкой, оказывается созвучна милитаризованному духу тридцатых. Для утопии уже нет места: «пацифист устроит такую борьбу за мир, что мало кто выживет». Но и война осмысляется рассказчиком не как идеологическое противостояние, ведь Советскому Союзу ничего не стоит менять друзей и врагов.
Молодые люди идут на Зимнюю войну (Советско-финляндская война 1939-1940 гг. – Прим. ред.) только потому, что это война вообще, а с кем именно – для них не так уж важно: «просто чтобы бросить себя на неведомую чашу, которая вдруг перевесит – и тогда все поймут, что хватит». Вторя своим героям, автор случайно или намеренно говорит о комиссарах в 1941 году, хотя вместо них уже были замполиты. Военным опытом грезят будущие прозаики и поэты, и он оказывается единственным недоступным творческому воображению. Война выполняет и конститутивную функцию, служа мифом основания: «Бывают времена, когда нет логики, и без войны ее уже не выстроишь». Это милитаризация советского общества: от френча и сияющих сапог до норм ГТО.
Для Дмитрия Быкова написать историю тридцатых невозможно. Обреченными на неудачу оказываются роман Миши, стихи его сокурсников и пьеса его приятелей, публицистика Бори, а в конечном итоге и попытка колдовать словами Крастышевского. Ища новой формы для высказывания о предвоенных годах, писатель использует для своей книги реальные сюжеты и участвовавших в них людей. Его роман оказывается так и не созданным в действительности, но очень правдоподобным (квази)историческим источником, помогающим нам лучше понять предвоенные годы.
Технически «Июнь» представляет собой огромный и почти слитный поток авторского сознания, знающего, с чего все началось и чем все закончится, умеющего говорить намеками и сплетающего воедино голоса множества героев, а стилистическая как бы небрежность придает повествованию живости.
У этой квазинеотредактированности есть объяснение: на обложке «Июня» красуется штамп «КГБ – Самиздат», стоят грифы «на правах рукописи», «для служебного пользования» и даты «1941-2017». Дмитрий Быков словно признается в том, что его альтер эго погибло в первый год войны, а роман был выпущен только к столетию революции, на что указывает эпиграф из «Возмездия» Блока. Автор обнажает прием, посвящая немалую часть текста обсуждению литературы модернизма и формального метода и даже выводя «золотое сечение» для собственного романа: «Вторая часть должна составлять половину первой, третья – примерно треть второй, четвертая же содержит главный посыл и вчетверо меньше». Теорема доказана.
О проекте
О подписке
Другие проекты