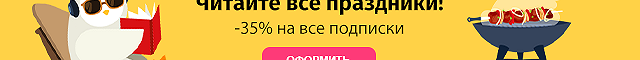
Тайна исчезновения ее родителей мучила нас все детство. Впоследствии оказалось, что тайны никакой нет: ее родители, веселые молодые велосипедисты, отправившись на воскресную прогулку за город, попали в одночасье под грузовик, потерявший управление. Зачем странной Изольде скрывать это от Лидки, которой в момент гибели родителей исполнилось два года, было неясно: но каждый раз, когда Лида – уже подростком – пыталась завести разговор о родителях, бабка вышагивала на кухню и, потрясая сжатыми кулаками перед своей стеной плача, грозно выкрикивала:
– Их бин фон айзен!!!
Я думаю, ты уже догадалась, что Изольде дана была кличка «Железяка»?
…Это была единственная из известных мне коммуналок, где никто не проклинал соседа в спину, не завидовал, не стучал кулаками в дверь уборной с криком: «Ты выйдешь, сука, хоть обосрись!!!»
Все пережили катастрофу – и личную, и народную. У Марии Леонардовны Васильчиковой погиб муж, и ее уплотнили до пятнадцати метров на троих. У Губерманов вся родня ушла по приказу в Бабий Яр. «Бусинка» была фронтовым врачом, муж погиб под Новороссийском, мать и сестры лежали все по той же прописке – в Бабьем Яру. Суровая женщина, редактор Фрида Аркадьевна, всю войну прошла фронтовым корреспондентом, а детский дом с двумя ее девочками-подростками был разбомблен при посадке на поезд, увозивший детей в эвакуацию в Самарканд.
Изольда же по кличке «Железяка»… О, Изольда, наоборот, накануне войны как раз вышла из лагеря, но сразу была схвачена и отправлена уже в другой лагерь как немецкая шпионка, хотя изначально у себя в Германии когда-то была еврейкой, то есть вряд ли бы выгадала от подобной коммерции.
И только теть-Таня считалась самой удачливой: ее муж Михаил вернулся с войны раненым, но живым. А умер позднее от прободения язвы – мирной счастливой смертью, любой позавидует!
Так что же, что мне так нравилось на Тарасовской? Может, в те годы еще неосознанно, я была благодарна дому, где мне подарили жизнь? Ведь мама, забеременев мною, явилась к Неле Израилевне проситься на аборт. Время, говорила, тяжелое, неустроенное – стоит ли плодить босяков…
– Стоит, – сказала Неля Израилевна. – Босяку хорошо в любое время, ему много не нужно. – И чуть не силком стащила маму с кресла. Когда я прибегала к ним в «танцевальную залу», Неля Израилевна хватала меня, тискала и кричала маме: «Ну, какую я тебе девочку спасла?!»
А «Бусинка» всех нас лечила, даже когда мы вырастали. И еврейский вопрос никогда на Тарасовской не стоял: так уж случилось, национальный пасьянс так сложился – почти все жильцы квартиры оказались евреями, оберегать следовало русских.
Собрания темпераментных жильцов проходили на кухне. Председательствовал, само собой, «Овод», Даниил Маркович Губерман, и все шумели, возражали, перебивали друг друга, предлагали и настаивали, выдвигали встречные вопросы и замечания… Дремал и похрапывал один лишь Валя, добрый молодец Садко. И когда председатель ставил на голосование «вопрос-ребром» и произносил свое окончательное: «Все согласны?» – Валя просыпался и отвечал: «Йо!» – ибо между собой все говорили на идиш, якобы для немецкого удобства Изольды. Способный же Валя все быстро схватывал. «Русский родной, – говорил он, – а идиш стал двоюродным».
Мне до сих пор иногда снится Тарасовская, каламбуры и розыгрыши Нины и Милочки, беготня младших, снисходительный смех «Овода», отчаянное «Ich bin von eisen!!!» Изольды. Я там много чего набралась, успевая лишь головой вертеть, впитывая словечки, жесты, манеру шутить…
В начале семидесятых дом поставили на капитальный ремонт и всем жильцам дали отдельные квартиры. Добрый молодец Садко и его красавица жена взяли в детдоме девочку и толково ее воспитали себе на радость. «Бусинка» получила однокомнатную в самом центре города, очень тосковала по соседям, продолжала лечить детей, дарила, раздаривала свой дом и скоро умерла.
Изольда тоже умерла, лет пять перед тем сражаясь с мучительным раком легких, до последнего устраивая дела внучки и переживая, что та слишком уж худощава, – видать, она и вправду была из железа. А Лидка уехала поступать в Москву, закончила там историко-архивный, неудачно вышла замуж, разошлась, опять попыталась переломить судьбу, и вновь неудачно… В начале девяностых эмигрировала в Штаты с одной только целью: спасти меня. И, похоже, это ей удалось (их бин фон айзен!), и до сих пор выходит неплохо, как ты сама наблюдала.
Губерманы за свою танцевальную залу получили аж две отдельных двухкомнатных квартиры в Чоколовке (тогда это были выселки, а сейчас вполне приличный район), и молодежь зажила собственной кипучей жизнью.
Нина и Милочка, хохотушки, поэтессы (у дверей всегда толпились женихи, и все – артисты-шахматисты-журналисты), быстро повыскакивали замуж. Одна выбрала-таки шахматиста, мастера спорта, посвятила ему жизнь – варила кашки для его больного желудка. Он бросил ее на двадцать пятом году совместной жизни, одинокую; драгоценный, он оказался стерильным. Другая – та наоборот, перебрала пяток мужей самых разных профессий, конфессий и наций, родила от каждого по птенцу и в конце концов вышла замуж за пожилого британца, владельца сети химчисток в Ливерпуле, который платил и платит за образование всех ее детей.
А насмешники-братики, кудрявые мулаты Юрик-Шурик по кличке «Тяни-Толкай», тоже разбежались: один в Израиль, другой, к сожалению, на небеса…
* * *
…Да, мой дорогой товарищ писатель, я поняла: ты просишь еще о парикмахерской. Это запросто: надо только сосредоточиться и вызвать в воображении те распрекрасные времена. Итак…
Из разговоров мастеров на профессиональные темы помню только: где взять, ничего нет, сделай сам. Привозились откуда-то бутыли, канистры, и все принимались что-то смешивать, разводить, переливать и взбалтывать – лить из говна пули.
Бог мой, я ж все помню, все! Могу мысленно пробежаться по прейскуранту и объявить те далекие цены, такие трогательные сегодня, даже поэтичные. Могу подробно описать этапы всех процедур.
Самой противной была химическая завивка. Но мастера ликовали: работа на весь день.
В химической завивке мне не нравились тухлый едкий запах и внешний вид клиента после процедуры: все становились похожими на одного и того же облезлого пуделя. Но самой страшной была термическая завивка.
Парикмахерша Роза произносила два магических слова: «Дора, агрегат!» И Дора вносила агрегат – небольшой чемоданчик, обитый черным дерматином. Жертву сажали на стул, волосы накручивали на маленькие металлические трубочки, которые втискивались в большие металлические цилиндры. От каждого цилиндра шли проводки к толстому проводу. Все это вставлялось в розетку и… елочка, зажгись! Раза два при мне «елочка» не зажигалась, из нее валил черный дым, и жертва, окутанная, как Саваоф, зловонным облаком, визгливо проклинала «это говнючее заведение!».
С тех пор я никогда не пользуюсь электробигудями, плойками, раскаленными щипцами: помню с детства и боюсь.
Возможно, первые бигуди и появились в Древней Греции, но до нашей парикмахерской они добрались гораздо позже. Не могу припомнить, чтобы у кого-то были нормальные бигуди; «химию» крутили на папильотки, и те лежали в плетеной корзинке. Процесс соблюдения санитарных норм как-то выпал из моей памяти, так что не скажу, стерилизовались ли они. Зато опыт их изготовления был у меня лет с четырех. Ни мне, ни маме, ни всей моей родне пользоваться папильотками не пришлось – нам, мама говорила, вьющиеся волосы подарил «наш готеню», – а вот соседки, все как одна, по утрам выходили на кухню, как федотовский «Свежий кавалер». И я часто помогала им нарезать жесткую оберточную бумагу на квадратики и сворачивать в тугие трубочки. Мне и в нашей парикмахерской доверяли эту важную работу, чтобы не слонялась без дела и не совала нос куда не следует.
Нет, конечно, самым безопасным, самым интересным и красивым был маникюр. К маникюрному столику приставлялась маленькая табуретка, которую почему-то все называли «слоником», – синяя, крепкая, с дыркой-сердечком посередке; я взбиралась на нее и смотрела, как мама опускает руки в мыльную воду и теть-Таня священнодействует… Крепенькая девчонка в сарафане и коричневых сандалиях с дырочками, я смотрела на красные, бордовые, лиловые, оранжевые и перламутровые пузырьки лака… Лет двадцать спустя, наблюдая из корзины шара алые, золотые и перламутровые ноготки перьевых облаков на горизонте, я вспоминала о долгих минутах и часах, когда, стоя на «слонике», глядела на цветистую роскошь будущей моей свободы и думала: как же медленно идет жизнь…
К сожалению, у папы было другое мнение о маникюре. Он его высказывал, листая мой школьный дневник: «Если так пойдет и дальше, станешь теть-Таней». И, предваряя мамино возмущение, ловко уходил от скандала: «Таню люблю, но ее узкую мысль – нет». И тут его слабый русский попадал в точку. Теть-Таня была милой, доброй, смешливой и услужливой; к тому же, мастером своего дела была. А я в свои небольшие годы не могла отличить широкую мысль от узкой. Мне нравилось все, о чем она шепотом рассказывала маме: о мужчине, с которым познакомилась на курорте, о его жене, с которой он хочет развестись, и о чем-то совсем секретном, что сообщала маме на ухо, и обе они заливались нежной таинственной зарей, и обе при этом хорошели…
Теть-Таня знала всё про всех, и мы с мамой узнавали от нее – с кем живут, что едят и что носят, с кем спят, от чего лечатся, с кем ругаются все мастера, кассиры, экспедиторы, уборщица Дора и даже клиенты. Этот мирок мне нравился, я мотала на ус его бытовые, криминальные и романтические тайны, рецепты интернациональных кухонь, советы по борьбе с перхотью. Обычная парикмахерская жизнь, и теть-Таня была не одинока: все говорили об одном и том же: беззлобно, подробно, интимно, бесстыдно, и все-таки сопереживая. Так было в конце 60-х, в конце 70-х, в конце 80-х. А потом…
Потом я полетела-полетела и улетела…
Но уверена, что в киевских парикмахерских и по сей день ничего не изменилось.
2
…Если твоя героиня будет маникюршей или косметологом, пусть живет и работает здесь, в Соединенных Штатах Америки. Именно в Нью-Йорке. Знаешь почему? Здесь богаче, пестрее и диковинней панорама физиономий и судеб. В эту кипящую кастрюлю только руку запусти – что угодно выудишь: от царевны-лягушки до зубастого крокодила. К тому же, здесь у тебя, у автора, больше возможностей сменить декорации: твоя героиня, если она не дура, в нужный момент спрячет подальше свой лайсенс косметолога (слово «лицензия» у нас, русскоязычных, не употребляется) и вытащит из лифчика старенький скромный лайсенс маникюрши… И отлично сможет подрабатывать в дедском садике. Не удивляйся, это не описка. Я имею в виду наваристую халтуру в «деДском садике», дневном клубе для стариков. И это – отдельная поэма, со своим сюжетом, своими героями, своими драмами и уморительными скетчами – оставим на потом. Причем учти: дома для престарелых, где тоже заработок – дай боже, существенно отличаются от «садика». Подробности – в свое время. Короче: вперед, забрасывай героиню рискованным десантом в наши края, ибо «там» и «здесь» – это разные миры, разные производственные отношения, разная мораль. А я готова подрядиться доморощенным Вергилием, дабы таскать ее по всем кругам здешнего рая. Твое дело – наводящие вопросы.
Вот интересно: сейчас странно думать, что я видела тебя лишь однажды. Сколько там мы просидели за ужином у Лидки – часа три, не больше? Я слегка робела: все ж писатель, человек известный, можно сказать, избалованный вниманием публики. Как ты оживилась, узнав, что я косметолог: «…Ура, а электронку свою не дадите? Я тут одну повестушку задумала…» И позже, когда прощались в дверях: «…И давай сразу на «ты», чего там, мы же ровесницы».
А спустя месяца три – письмо: «Не уверена, что вспомнишь меня, Галина…» Господи, да я все эти месяцы каждый вечер, как прибегу с работы, сразу к компу – что там в почте? Помнила, какое от тебя шло тепло, чуть ли не родственное – от чужого, в сущности, человека. Это сейчас уже – будто знакомы тысячу лет, и трудно удержаться, чтобы не вывалить на тебя всю свою жизнь.
Недавно Лидка на мои восторги по поводу нашей с тобой переписки отозвалась: не обольщайся, мол, человек на работе. Тебе, мол, нужен материал для повести, вот ты и настроена на мощный «прием», на волну отзывчивости и внимания: профессионал, ничего не скажешь. Да я все понимаю и не жду, что моя персона тебя приворожит настолько, что до скончания века ты будешь письма мне строчить. Видела, видела, как играет твой зрачок на удачную фразу или там деталь; заметила, как, восхитившись каким-то словцом в разговоре, ты тут же на салфетке его нацарапала. Все понимаю, но эти недели и месяцы нашего – поверх континентов и личных биографий – разговора… они очень, очень мне дороги, так и знай.
Интересный эффект такого дистанционного знакомства: при устном общении я бы сказала, что ты замечательно слушаешь. А вот в нашем электронном случае – как бы это точнее назвать? В такой переписке тоже ведь свой ритм возникает, как паузы в разговоре или вовремя поданная фраза, или в самую точку вопрос, который хочется обдумать… Все эти недели нашей виртуальной беседы я на какой-то одной с тобой, очень короткой волне. Едва мелькнет в голове: что ж она помалкивает? – глядишь, минута-другая – и вот оно, твое письмо!
Ну, так я о разнице в декорациях.
Вспомни парикмахерские салоны в Союзе конца семидесятых. Что за хабалки в них работали! Ни подступиться к ним, ни уважать их невозможно.
Я ведь уже здесь получала образование. Сначала закончила школу «по классу скрипки» – извини, маникюра-педикюра. Потом высшую школу – косметологии. Зарабатывать начинала в таких вот «дедских садиках» для стариков. Одноклассникам и дальней родне в Киеве стеснялась писать, что здесь, в Америке, «стране осуществленной мечты и широчайших возможностей», я всего только маникюрша. Стыдно, понимаешь, было… В те годы, когда мы росли, детей учили на фортепьянах. Вспомни, из скольких окон доносился, спотыкаясь, икая и отрыгивая, тот самый полонезогинского! Считалось, что музыка обеспечит девочке достойный кусок хлеба. Я и сама отбацала в музыкальной школе семь своих каторжных лет. Насчет куска хлеба здесь все иначе. К банкиру своему относятся, конечно, теплее, чем к маникюрше, но банкир запросто пригласит свою маникюршу и на ланч, и на торжественный прием. Куда только меня мои толстосумы-клиенты не приглашали! Устала таскаться…
Кстати, важная поправка к твоему последнему письму: слово «косметичка» в русско-американском сообществе означает конкретно сумочку с разным парфюмерным барахлом: помадой, тушью, пудрой и духами. Специалиста же, работающего в области косметологии, величают уважительно: косметолог или бьютишен. Еще одно высокопарное название моей двусмысленной профессии: эстетишен. Есть даже специальные школы по подготовке только эстетишенс, для работы исключительно с Его Величеством Фейсом. Все, что можно сделать с лицом человека – покрасить ресницы и брови, убрать тетке усы и бороду, словом, почистить, отполировать и облагородить шкурку, данную тебе нерадивой мамкой-природой, – считается искусством косметологической эстетики. (Но не массаж; на массаж тоже надо иметь специальный лайсенс.)
Так вот, за годы внедрения во все углы, закоулки, подвалы, чердаки, а также и темные норы своей профессии я насобирала кучу разных лайсенсов, законно отдающих в мои хищные лапы любого клиента; ибо из обезьяны, явившейся на порог моего кабинета, я способна, как всемогущий бог, за несколько сеансов сотворить человека, минуя длинную лестницу эволюции.
Главное, работая в этом бизнесе, ты поневоле становишься психологом. Порой достаточно беглого взгляда на человека, чтобы многое о нем понять и рассказать. Я даже научилась определять национальную принадлежность клиента по виду и типу кожи. Сразу вижу ирландцев, немцев, англичан, поляков, ну, а про мексиканцев, пакистанцев, китайцев или там индийцев вообще не говорю. Взгляну на кожу клиента и могу описать образ его жизни и качество потребляемой им пищи, а по походке, осанке, по тому, как несет свой костяк, могу рассказать о характере и даже об интеллекте человека… Иногда думаю, из меня хорошая гадалка получилась бы; заняться, что ли, этим на старости лет…
Извини, что так бестолково тебе «помогаю»: сбиваюсь с темы, заскакиваю не в те конюшни, выплескиваюсь из берегов, не сразу отвечаю на вопросы… Хотя понимаю, что любая работа, а твоя тем более, требует последовательности, и если уж ты задала вопрос, значит, работаешь как раз над соответствующим отрывком или там главой – как ты это называешь? И разные побочные соображения-отступления, размазня и брызги моих мыслей и моей персональной биографии могут тебя только сбивать с толку и раздражать. Но тут уж ничего не поделаешь, такая я анархистка во всем, что касается собственной жизни… Санёк мой, бывало, говорил: «Опять тебя “Бабий ветер” полощет!» Он родом был с Сахалина, в ветрах понимал…
Кстати, а ты сама-то знаешь, что это за штука такая – «Бабий ветер»? Во многих регионах мира (да-да, прости и потерпи, я уже оседлала любимую воздушную тему) ветра имеют свои имена, соответственно характеру и привычкам. Над озером Селигер, например, летает «Женатый» ветер, на Дону – северный «Мужичий», в Архангельском Поморье временами задувает западный ветер «Плакун». Есть сибирский «Хиус» – зимний северяк. Есть байкальский «Баргузин», который «пошевеливай вал»; есть «Кимлач» – сильный ветер в бассейне Днестра, «Кимбур» – восточный ветер где-то на побережье Черного моря. Есть полный штиль на Азове с именем героини романа Дюма: «Бунация»… Есть западный ветер «Понент»… Есть восточный порывистый ветер «Левант», есть «Гарбий» – низовка, что гонит волну; холодная северная «Трамонтана»…
Не знаю я всего, но того, что знаю, хватило бы сейчас страницы на три одних лишь перечислений: «Я список кораблей прочел до середины…» Так что остановлюсь. Приплыли.
Словом, «Бабий ветер» – это сухой приятный ветерок на Камчатке; на нем бабы сушат белье. В конце весны и летом побережье там практически всегда окутано плотным морским туманом. Волгло, вязко, сыро так, что трудно дышать, – ну, и белье, сама понимаешь, не сохнет. Осенью и ранней весной задувают штормовые ветра. Простынку-то они высушат быстро, но заодно и унесут с собой. А веселый такой, слегка морозный ветерок редко случается, в месяц – считаные дни. Вот хозяйки и ждут его, как манны небесной, и чуть задул, перестирывают все белье в доме, развешивая во дворах, на крышах и балконах… Вся округа плывет под парусами простыней и пододеяльников, скатертей, портьер, покрывал, платков и шалей… И шары запускать можно под этот благостный нежный ветер, ласковый, трудолюбивый… истинно – бабий…
До сих пор не могу поверить, что с этим вот «Бабьим ветром» в башке когда-то (уже страшно вспомнить, сколько лет назад) я сумела перемахнуть океан и приземлиться в Бруклине…
* * *
Ну, вот и приехала к твоему вопросу. Почему – Бруклин, привычный и обрыдлый читателям книжек про русскую и нерусскую Америку?
Отвечаю.
Если исключить Бруклин из городской черты Нью-Йорка, он стал бы четвертым по населенности городом США. Вполне себе такая небольшая страна с очень кудрявым, кипучим и разно-всяким населением; со своими давным-давно заведенными порядками, своими бандитами и полицейскими, нищими и богачами, своими бизнесами, школами, библиотеками, музеями и концертными залами; своим роскошным Ботаническим садом и величественным кладбищем Грин-Вуд; со знаменитым деревянным променадом вдоль океана; своими ресторанами, магазинами, молельными и похоронными домами, прачечными-химчистками, косметическими и массажными салонами…
Так уж получилось, что приземлилась я в Бруклине; на Манхэттен денег не было, в Квинсе обитала в основном горская и бухарская, чужеватая мне публика. А ехать в другие боро
О проекте
О подписке
Другие проекты
