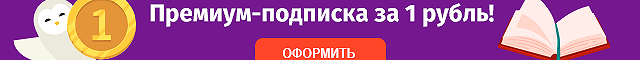
Джудит Фландерс
Всему свое место: Необыкновенная история алфавитного порядка
Переводчик Тамара Казакова
Научный редактор Михаил Сергеев
Редактор Анастасия Махова
Издатель П. Подкосова
Руководитель проекта А. Шувалова
Ассистент редакции М. Короченская
Корректоры О. Петрова, Е. Рудницкая
Компьютерная верстка А. Ларионов
Художественное оформление и макет Ю. Буга
Фоторедактор П. Марьин
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Judith Flanders, 2020
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2023
* * *
* * *
Памяти моей бабушки Дорис К. Моррисон.
Она любила навести порядок!
Наиболее важные для нас аспекты вещей скрыты из-за своей простоты и повседневности. …То, чего мы (до поры) не замечаем, будучи увидено однажды, оказывается самым захватывающим и сильным[1].
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН.Философские исследования (1953)
Предисловие
С древнейших времен письменность считалась даром богов: в Древнем Египте она была дарована человечеству Тотом, богом мудрости и знаний; в Вавилоне – Ану, богом судьбы; в Шумере ее передал людям Набу, «писец богов». Греки считали, что письменность принес человечеству Гермес, посланник богов; согласно другим источникам, ее подарил музам Зевс. В скандинавском мифе – это дар Одина; в Индии слоноголовый бог Ганеша использовал один из своих бивней в качестве пера; в мифологии индейцев майя творец мира Ицамна вначале дал имена созданным вещам, а потом наделил людей способностью записывать эти имена. Иудеи учили, что Бог передал людям искусство письма через своего посредника Моисея; в Коране Аллах – тот, кто «научил человека писать пером». Созданная в XV в. корейская письменность хангыль возникла через «небесное откровение, явленное разуму мудрого царя»[2].
Похоже, вопрос о том, как появилась письменность, является ровесником самой письменности. Вот почему умение писать, позволяющее нам читать, собирать информацию и передавать ее, кажется настолько очевидным, что мы едва ли сознаем всю значимость этой способности. Однако с чтением, письмом и тем, как мы этим пользуемся, все обстоит не так просто. Как мы увидим далее, в мире существует два основных типа письменности: алфавитное и слоговое письмо и письмо идеографическое. Насколько мы можем судить, алфавиту изначально придавали определенный порядок. Причина этого не установлена, хотя возможно, и даже вероятно, все дело в облегчении запоминания. Неалфавитные системы письма упорядочивались различными способами: по звучанию, по значению, по структуре или форме знака.
У читающих и пишущих на алфавитном языке, например на английском, не вызовет сомнений мое предположение, что элементы письменности должны быть определенным образом упорядочены. Принимается как должное, что наши системы письменности изначально использовались для сохранения мыслей; что впоследствии были изобретены способы, позволяющие возвращаться к этим мыслям, собственным или чужим. Ведь письменность является мощным инструментом, не только позволяющим персоне А уведомлять персону Б о том, что произошло или произойдет, или передавать и получать иную информацию, но и позволяющим персоне Б получить информацию об этих событиях столетия спустя после смерти А.
Сила письмeнности заключается в том, что она позволяет преодолеть время, а также в том, что создает искусственную память, или хранилище знаний, – память, находящуюся на материальных носителях, будь то глиняные таблички, стены, камень, бронза, папирус, пергамент или бумага. Именно так она и использовалась веками. Слова записывались и сохранялись. Как легко догадаться по характеру тех записей, что дошли до нас, предполагалось, что к ним будут обращаться впоследствии. Но каким образом мы освоили это искусство (или науку) «поиска записей»? Как мы научились находить то, что нам нужно и когда нам это нужно, в массе написанных слов, которые ежедневно окружают нас на протяжении тысячелетий?
Сегодня трудно представить, что невозможно что-то найти, то есть не знать, как пользоваться указателем, словарем или телефонной книгой. Еще труднее вообразить мир, в котором нет ни указателей, ни словарей, ни телефонных книг. Упорядочение и классификация, а затем обращение к материалу, организованному с помощью различных справочных инструментов, стали настолько неотъемлемой частью современного западного склада ума, что их значимость практически неизмерима и в то же время парадоксально незаметна. Ибо мы ежедневно, даже ежечасно обращаемся к классификации – и не только при помощи записей. Каждый день мы используем десятки устройств, даже не задумываясь о том, что они были специально разработаны, чтобы мы могли быстро и без усилий находить нужное.
Например, в бумажнике есть кармашек для монет, более длинные отделения для купюр, короткие – для кредитных карт; в сумках есть петли для мобильных телефонов, карманы на молнии для ключей, вкладыши для проездных билетов. Однако их использование зависит от личного выбора: я могу положить свой телефон в карман, который кто-то другой использует для кошелька, и наоборот. Другие объекты должны быть упорядочены таким образом, чтобы их расположение было понятным широкой аудитории. В газетах статьи, освещающие внутренние события, отделены от международных новостей, статьи о спорте – от художественных обзоров или передовиц. Это сделано не для облегчения жизни газетчиков (один журналист может писать статьи на разные темы), но в помощь читателю. В свою очередь, размещение витрин в супермаркетах частично обусловлено технологическими ограничениями: до недавнего времени все охлажденные и замороженные продукты почти всегда размещались вдоль стен магазинов, где холодильные шкафы можно было подключить к электрическим розеткам; но в остальном для сортировки продуктов используются общие категории: мясо, рыба, свежие фрукты и овощи. Аналогичным образом мебельные магазины, такие как IKEA, сортируют свои товары по комнатам – здесь мебель для спальни, там предметы для кухни.
Эти способы настолько очевидны для нас, что мы едва ли рассматриваем их как систематизацию, тем не менее именно это они собой и представляют. Они позволяют людям, которые ищут информацию или материальные объекты, найти то, что им нужно. Однако все эти способы опираются на некоторые, пусть даже ограниченные, предварительные знания человека, выполняющего поиск. Читатель должен знать, что статья об Открытом чемпионате Франции по теннису (French Open) при классификации будет отнесена скорее к определенному виду спорта, а не к стране и будет помещена в газете в разделе «Спорт», а не среди международных новостей. Точно так же покупатели супермаркета будут искать помидоры в овощной секции, хотя формально это фрукт; и укроп, если он сухой, будет находиться в разделе специй, а если свежий, то в овощах.
Сходным образом почти все системы сортировки требуют от пользователей обладания некоторым объемом знаний. С нашей современной точки зрения, печатные списки и алфавитный порядок, по сути, синонимичны: мы предполагаем, что алфавитный порядок является (и всегда был) для человечества стандартным методом сортировки, позволяющим найти бóльшую часть информации, содержащейся в письменных источниках. Но оказывается, что это совершенно не так. На протяжении веков предпочтение отдавалось целому ряду других способов сортировки – географическому, хронологическому, иерархическому, категориальному. Порой в расположении материала трудно найти какой-то определенный принцип: сам порядок вещей представляется настолько существенным, что его просто запоминают. Какой был смысл для средневекового священнослужителя располагать книги Библии в алфавитном порядке? Для него было очевидно, что Бытие предшествует Исходу, так же как для нас очевидно, что понедельник идет перед вторником, а сентябрь – перед октябрем. Однако если вы попросите кого-то назвать или записать дни недели или названия месяцев в алфавитном порядке, то, скорее всего, последует продолжительная пауза. Это на удивление трудно сделать, потому что дни и месяцы следуют друг за другом в «естественном» порядке, и это не алфавитный порядок[3].
Другие типы категоризации и классификации, которые были естественными для прошлых поколений, сегодня кажутся такими же странными, как, например, попытка поместить август в начало списка месяцев на том основании, что он начинается с буквы A. Однако в мире, более стратифицированном, чем наш, иерархическое расположение когда-то представлялось вполне очевидным. В «Книге Судного дня» (поземельной переписи Англии и некоторых частей Уэльса, составленной по приказу Вильгельма Завоевателя в 1086 г.) была приведена оценка стоимости 13 418 владений, которые сперва были расположены в зависимости от их статуса, затем по географическому принципу, затем опять согласно статусу и, наконец, по уровню богатства. Вначале шел король, затем – по регионам – высшее духовенство, могущественные бароны и, наконец, самые обычные земледельцы.
Разумеется, чтобы информация «Книги Судного дня» оставалась доступной для последующих поколений читателей, они должны были знать регионы Англии и Уэльса и иерархический порядок титулования. Ибо за все тысячелетия существования письменности сложилась только одна важнейшая система классификации, которая не требовала никаких предварительных знаний для поиска: расположение по алфавиту. Единственное, что следует выучить для использования алфавитного порядка, – это список из приблизительно (в зависимости от языка) двух дюжин знаков, имеющих установленную последовательность. Не обязательно знать, на каком континенте находится город, чтобы отыскать его в атласе, или знать, кто стоит выше в церковной иерархии – епископ или кардинал, чтобы обнаружить их имена в списке участников духовного собора. Не нужно знать, предшествовала ли Гражданская война в Англии Гражданской войне в США, чтобы найти сведения о ней в справочнике «Войны в истории»; и, разумеется, не нужно знать, является ли помидор овощем или фруктом, чтобы отыскать его в каталоге семян.
Алфавитный порядок в этом отношении совершенно нейтрален. Человек, имя которого начинается с буквы А, находится в начале списка не потому, что он крупный землевладелец, или что у него больше денег, или что он родился раньше всех из этого списка, а просто по прихотливой случайности алфавита. Отсутствие у букв значения или заранее определенной ценности делает алфавитный порядок инструментом сортировки, который не навязывает пользователям ни убеждения его создателей, ни даже образ мира, в котором он был создан. В 1584 г. составитель первой французской библиографии в посвящении, адресованном королю, извинялся за использование алфавитного порядка и признавал, что его выбор искажает иерархию, позволяя менее значимым людям появляться в списке перед более значимыми, детям – перед родителями, подданным – перед правителями. «Конечно, – писал он, – я чувствовал нечто неподобающее в соблюдении алфавитного порядка, то есть порядка A, B, C», но тем не менее настаивал на этой системе – не для того, как можно предположить сегодня, чтобы было легче найти соответствующие статьи, но для того, чтобы «избежать всякой клеветы и оставаться в дружеских отношениях со всеми»; иными словами, не нарушить, пусть и неосознанно, иерархию, поставив менее значительного человека впереди более великого[4]. Следовательно, в 1584 г. алфавитный порядок все еще оставался запасным вариантом, позволявшим избежать в публикации бестактности по отношению к общественному порядку.
Двести лет спустя, в конце XVIII в., в университетах Гарварда и Йеля колледжи по-прежнему использовали иерархию и статус в качестве основного критерия для сортировки учащихся, причем списки зачисленных составлялись по принципу состоятельности и социального положения семей учеников, а затем внутри этих разрядов выделялись те, чьи отцы учились в том же колледже. Личная успеваемость студентов обусловливала их повышение или понижение в списке класса в течение года, но на официальных мероприятиях порядок следования имен определялся с учетом социального статуса, согласно которому ученики входили в аудиторию и рассаживались по местам[5]. Сегодня невозможно представить себе расположение учащихся в зависимости от финансового состояния их родителей, расы или пола, цвета волос или их возможной популярности среди одноклассников (по крайней мере, это не афишируется). В нашу демократическую эпоху мы не сортируем учеников даже по успеваемости, хотя в прежние времена обычным был принцип «отличники сидят в первых рядах».
Главное преимущество алфавитного порядка, на наш взгляд, состоит в том, что он вообще ничего не сообщает о предмете классификации: «Алфавит помогает в поиске [или организации] вещей, но не в их понимании. Он не может сказать вам, почему кит имеет больше общего со слоном, чем с акулой»[6]. Алфавит нейтрален по отношению к значимости вещей и просто направляет пользователей к источнику, из которого они могут узнать об их значении или ценности.
На этой странице вы можете прочитать онлайн книгу «Всему свое место. Необыкновенная история алфавитного порядка», автора Judith Flanders. Данная книга относится к жанру «Научно-популярная литература». Произведение затрагивает такие темы, как «лингвистика». Книга «Всему свое место. Необыкновенная история алфавитного порядка» была написана в 2020 и издана в 2023 году. Приятного чтения!
О проекте
О подписке
Другие проекты

